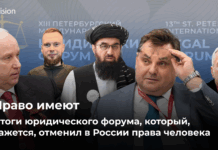С началом начала войны Полина Грундмане основала группу психологической помощи Without Prejudice — «Без предосуждений».
«Проект Without Prejudice поддерживает русскоговорящих людей, нуждающихся в помощи из-за войны в Украине», — так WP описывает свою миссию.
Живя в Швеции, Полина не смогла приехать в Россию, чтобы проститься с родителями из-за риска преследования за свою антивоенную позицию. После этого она создала направление психологической помощи для тех, кто, как и она, из-за войны оказался лишен возможности попрощаться с близкими.
Полина и ее коллеги готовы поддерживать как мам мобилизованных, чьи сыновья погибли на фронте, так и эмигрантов, у которых дома осталась семья.
Мы попросили Полину поделиться с нами этой частью личной истории и тем, как она перенесла ее в работу.
— Полина, расскажите о вашем проекте.
— Мы открылись в самом начале войны, и наша позиция понятна — мы помогаем антивоенно настроенным людям. Дальше наши направления делились на личную и групповую терапию. Есть отдельные группы для оставшихся в России и эмигрантов. «Потеря» для нас — это смерть, утрата и горе.
Почему идея создания пришла в голову? Из-за моей личной истории. За последний год я сначала потеряла отца, а затем, через три месяца, мать. Я не могла находиться рядом, когда они лежали в больницах, в реанимации. Не могла их похоронить, потому что ехать для этого в Россию было небезопасно.
Почему важно помогать? За три дня до смерти моего папы у Веры Полозковой умерла мама. И у нее такая же ситуация. Я помню, когда это случилось, она писала об этом в «Инстаграме» — что вот идет подготовка к похоронам, а ее нет на месте. Как она принимала участие в этих похоронах онлайн… Я тогда смотрела и думала: боже мой, ей так плохо, но какая она молодец, что говорит об этом открыто. Сама же тогда не знала, что у меня отец умрет. Писала Вере и поблагодарила за то, что мне после ее постов легче. Поймала себя на этой мысли и подумала, что надо, наверное, побольше об этом говорить.
Я понимала, что есть достаточное количество людей, которые оказались в такой же ситуации. Своим психологам предложила сделать полный ресерч того, что сейчас делается в мире психотерапии по работе с утратой, чтобы разработать собственный проект.
В итоге получился проект не только для тех, кто не смог приехать на похороны, как я. Мы помогаем всем, кто переживает утрату близкого. Для меня важна помощь человеку, который находится в самом уязвимом состоянии.
Когда мы начали рассказывать про это, к нам пришли совершенно разные люди — начиная с тех, кто уехал еще в начале войны и не смог попрощаться со своими близкими, заканчивая матерями, чьи сыновья погибли на войне со стороны России. Этого мы не ожидали. Вы же понимаете, что мы находимся в определенном информационном вакууме. Про нас никто, кроме антивоенных изданий, не пишет. И они про нас узнали именно из таких каналов.
Надо сделать поправку, что это мамы мобилизованных. Или мамы тех, кто сидит в тюрьме или в СИЗО. Как правило, это мамы, чьи дети попали из-за наркотиков на большие сроки и сделали выбор уйти на фронт. Когда мы начали слышать их истории, то поняли, насколько общее горе объединяет людей.
Хотя те, кто поддерживает войну, не хотят ничего слышать, связанного с антивоенщиной. Мы пытались зайти к ним через главную тему — потерю близкого. Но когда они гуглят мою фамилию, натыкаются на мой антивоенный проект психологической помощи. После этого их глаза наливаются кровью, хотя еще совсем недавно у них умер близкий. Это удивительно.
Антивоенно настроенные в наших группах тоже есть. Мы спрашивали, будет ли им комфортно делиться, зная, что в группе есть такая мама. И слава богу, у людей хватает эмпатии. Они отвечали, что не имеют права её осуждать — она потеряла своего сына.
Подчеркну, что к нам приходит особая категория мам. Мама, которая отправила своего сына воевать, чтобы получать его зарплату, не пойдет к психотерапевту. Это другие люди.
Кстати, удивительно: жены к нам не приходят.
— Почему жены мобилизованных к вам не приходят?
— Я не знаю. У нас ни одной жены нет. По моему ощущению, это другой градус боли. Потерять своего ребенка — это вообще самое страшное, что может быть. Потерять мужа — тоже плохо. Все всегда меряется отношениями и эмоциональной связью, которая у вас была. Если жена отправляет мужа на войну, наверное, эмоциональной связи там не так много. Инстинкт — сохранить, оставить возле себя своего мужа — вообще-то должен присутствовать.
Мамы — другие.
— Как устроена система работы с теми, кто к вам приходит?
— Мы собираем группу. Начинаем с профайлинга, потому что в работе с потерей крайне важно находиться с себе подобными. Не берем тех, у кого только умер близкий — неделю или месяц назад. Это острая фаза боли, когда человек еще находится в шоке. Нужно подождать хотя бы три месяца. С такими людьми остаёмся на связи, но не берем в групповую терапию.
Крайне тщательно проводим первые интервью. Если видим, что человек совсем не стабилен и не хочет обращаться к психиатру за медикаментозной помощью, то стараемся его не брать. От других участников могут пойти триггеры, когда они начнут рассказывать свои истории. Это может еще больше навредить.
После стартует сама группа. Ее ведет клинический психолог, который работал в онкоцентрах. Программа онлайн, занятия по 2–2,5 часа раз в неделю.
Это похоже на группы по борьбе с зависимостью, потому что там тоже важно понять, что ты не один. Всегда хочется оказаться среди тех, кому так же больно — «значит, я не схожу с ума».
Нам важно, чтобы группы антивоенно настроенных россиян, продолжающих жить в России, вели те, кто так же живёт в России.
— «Горю нужна не помощь, а чтобы кто-то был рядом» — разъясните этот подход.
— Когда человек оказывается наедине с потерей, суицидальный риск очень высок. Если он будет знать, что у него есть группа людей, пусть и в чате, и им можно написать «Я сейчас на грани» — это снижает риски.
Горю нельзя помочь — ушедшего человека не вернуть. Мы можем дать лишь методы, чтобы помочь самому себе. Горе — это часть жизни, жизнь без горя уже не вернешь.
Самое сложное — это работать с мамами, которые не видели тела своего ребенка. Какая бы адекватная ты ни была, как у матери, в твоей голове все равно будет сидеть, что это ошибка.
Они же ездят по всем этим территориям, по госпиталям, чтобы найти тех, кто был с их ребенком в последние минуты. Когда они рассказывают свои истории, я чувствую, что у меня стирается грань, и я слышу только их боль.
— Вы говорите, что в первые месяцы после потери нельзя в группу, потому что еще слишком рано. Есть ли у горя «верхний предел» по срокам?
— Я видела семилетний кейс. Мне тоже показалось это странным. Я даже подумала, что это перекладывание ответственности за свое недостижение целей, за свои проблемы в жизни — на смерть близких.
Очень важно, чтобы на входе попался хороший психолог. У нас был один такой пациент, который говорил, что из-за смерти мамы у него всё в жизни не клеится. Можно попробовать помочь, но потом всё равно уткнешься в другую проблему. Там уже нет утраты. Там — обида на мать, которая недолюбила, недовоспитала или еще что-то.
Но я не думаю, что можно говорить про конкретные временные рамки. Наверное, это будет неправильно. Например, три года — это не такой большой срок. Многие люди в принципе откладывают горевание.
У нас есть такой участник. Когда началась война, ему нужно было срочно выезжать из страны, а перед этим у него умер папа. Он говорит: «Я даже не горевал, я всё делал на автомате. Мне надо было переехать, легализоваться, работать, что-то делать. Все эти три года я выживал. А теперь я ассимилировался — и меня накрыло». Он эту стадию горевания отложил.
Три года и война — это все-таки особенные обстоятельства. Но когда семь лет — что-то мне подсказывает, что это не очень.
— Я боюсь, что, пока я вынужденно не живу в России, кто-то из моих близких умрет, а я не смогу попрощаться. В точке, где этого еще не произошло, что помогает снять тревогу?
— Вам все равно ничего не поможет. В любом случае это будет сильнейший удар.
Проговаривайте все сначала в своей голове. Разработать план действией на случай смерти. Потом — разговаривайте об этом с близкими.
Например: «Мам, давай мы с тобой договоримся, что когда тебе станет плохо, когда ты почувствуешь себя слабой, ты мне об этом скажешь и мы подумаем, что можно с этим сделать». Как минимум должно быть больше ясности. Чтобы, когда все произойдет, у вас не было разрыва мозга еще и от обилия задач.
Нет такого, что внезапная смерть хуже, а очевидная и ожидаемая — проще. Это так не работает. Любой человек всегда надеется на чудо.
— Мне кажется, что в последние три года многие стояли перед таким выбором: остаться в России рядом с человеком, которого можешь потерять, и получить риски репрессий и, например, мобилизации. Либо уехать, снять с себя эти риски, но бояться, что вы больше не увидитесь. У каждого из вариантов есть свои последствия. Как вы думаете, что из этого оставляет бо́льший след на психике?
— Сначала я отвечу вам как человек, который потерял маму с папой. Если бы я знала, что случится, я бы никогда в жизни не открыла эту организацию. Я никогда в жизни не стала бы заниматься помощью антивоенно настроенным людям. Никогда бы в жизни.
Несмотря на то, что я понимаю, что помогла огромному количеству людей, их жизни для меня менее важны, чем жизни моих мамы и папы. Я знаю, что их довели до этого состояния, потому что я занималась этой деятельностью. Мои родители не должны были умирать. Один за другим, в закрытых учреждениях. Никаких симптомов не было.
Ничего из этого того не стоит, ни один протест. Я говорю за себя.
Когда я начала свою работу, с родителями все было хорошо, мой папа говорил: «Пожалуйста, только не возвращайся. Тебе сейчас сюда совсем не нужно».
Я много раз хотела приехать, но у меня пятеро детей, которые в случае чего остались бы одни. Папа бы не хотел этих рисков. Поэтому, когда родители умерли, у меня не стоял вопрос о приезде. Тогда уж нужно было приезжать, когда они были живы.
А как человек, который создал психологическую службу, я скажу, что всегда надо выбирать свою жизнь. Это нормально, что родители умирают. Ненормально, когда умирают дети. Нужно думать о своем продолжении, о том, что вы оставите после себя.
Наверно, если у вас хорошие отношения с родителями, они не пожелают вам потерять свою свободу ради того, чтобы побыть рядом.
Два ответа: честный и из книжки.
Большинство уехавших не занимаются чем-то антивоенным, как я. Для них нет проблем иногда навещать близких в России. Среди наших психологов есть те, кто въезжает и выезжает, и у них все нормально.
С этим и есть основная работа — сделать водораздел в жизни. Да, это было, но, к сожалению, это закончилось. Максимум, что ты можешь, это оставить воспоминания, чтобы возвращаться к ним, когда плохо.